| |
| Еще о Гоголе |
| По поводу статьи проф. Д. Чижевского «Неизвестный Гоголь», «Новый Журнал», кн. XXVII, стр. 126–156. |
| |
| Источник: Вестник русского студенческого христианского движения. 1952. № 4. С. 25–29. |
| |
| Захватывающе интересная статья, намечающая новые вопросы и новые пути в изучении того, кого мы, почитая одним из корифеев русской литературы, в сущности, мало и плохо знаем и неверно понимаем: «Неизвестный Гоголь». |
| |
Статья щедро рассыпает не только темы для личных раздумий, но и вопросы, требующие еще научной разработки и ждущие молодых исследовательских сил.
|
| |
| Им – молодежи – особенно хотелось бы рекомендовать эти, насыщенные мыслью страницы. |
| |
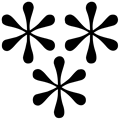 |
| |
| «Неизвестный Гоголь». Оказывается, что даже его жизненная биография изобилует темными местами, провалами. А о «духовной биографии» уж и говорить нечего. |
| |
| Сорок три года жизни (19/II 1809 – 21/II 1852) из коих пятнадцать отданы писательству. |
| |
| 19-ти лет печатает неудачную литературную (но интересную для биографии) поэму «Ганс Кюхельгартен», с отчаянием уничтоженную, после жестокой критики Белинского. Через три года (1831-32) – слава, принесенная «Вечерами на Хуторе». Затем «Миргород», «Арабески» и в 1836 – триумф «Ревизора». |
| |
И вдруг, среди этого триумфа и всеобщего признания, ни с того, ни с сего, – бегство заграницу! (1836).
|
| |
| Там – с короткими находами в Россию – он остается 10 лет. За это пребывание, из «прекрасного далека» издает свой I-й том «Мертвых Душ» (1842) и замолкает до 1847 г. |
| |
| В этом году он – уже признанный глава натуральной школы, с членами которой, впрочем, не состоит ни в каких личных отношениях – он выпускает «странную» и в своем роде единственную книгу «Избранные места из переписки», возмущающую даже нежно преданного ему старика Аксакова. |
| |
| И снова замолкает, на этот раз уже навсегда; последние 5 лет его жизни (1841-1852), тайна его духовной биографии, оканчивающаяся такой непонятной, загадочной смертью. |
| |
| И именно потому, что точно и определенно Гоголя не знали даже те, кто считались его «друзьями», через 10 лет, при попытке воссоздать его образ живой, человеческий, – получился миф, легенда, упорно повторявшаяся и переписывавшаяся до конца ХIХ в. |
| |
| Но и в этой легенде остались темные, неясные места; например: |
| |
| 25 |
|
| |
| как и когда веселый рассказчик Рудкий Панько превратился в «натуралиста», «сатирика»? А затем тоже как? и когда? в какого-то ретроградного проповедника и ханжу Фому Опискина? |
| |
| Для объяснения последнего превращения обыкновенно говорилось о «религиозном кризисе», но на чем в сущности эта догадка основывалась? Ровно ни на чем. |
| |
| На рубеже двух столетий поэты-символисты и несколько писателей и ученых, среди которых Чижевский отводит особенно почтенное место проф. Зеньковскому и В. Гиппиусу, подвергли этот и другие вопросы критической проверке и пришли к совершенно иным выводам, чем господствующие дотоле. |
| |
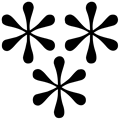 |
| |
| Перебирая в свою очередь некоторые данные писательской и житейской биографии Гоголя, Чижевский останавливается на двух фактах: на «самостилизации» писателя и на наличии каких-то иррациональных поступков, какой-то мистификации и лжи, как будто даже и вовсе ненужной. «Таинственный Карла» прозвали Гоголя его лицейские товарищи и кажется, что нередко так же называли его «про себя» и его взрослые знакомцы и «друзья», скептически относившиеся, например, ко всем его сообщениям о его «серьезных» научных занятиях по истории, по этнографии и по ботанике. А между тем позднейшие розыски специалистов в оставшихся после Гоголя бумагах, свидетельствуют о его правдивости в данном случае и опровергают скептиков. |
| |
| «Стилизовал» себя Гоголь под «вечного странника», «всем чужого», «одинокого». И постепенно эта стилизация стала его второй натурой: даже, когда «Вечера на Хуторе» широко распахнули ему двери на тогдашний литературный Олимп – он не стал там «своим». |
| |
| Да и язык его тоже совсем чужой «двупланный», постоянный перебой русского с малороссийским – (может быть именно от этого его так трудно переводить и он так много в переводе теряет?). И, кажется, Гоголь сознательно не хотел исправлять указываемых ему ошибок. |
| |
| Он живет какой-то «чужой» от всех «скрытой» жизнью. И примечательно, что об этой «скрытой жизни» часто говорится и в его многочисленных (1.300!) письмах, и в чисто литературных произведениях, например, в «Старосветских помещиках» (1835), которые, конечно, отнюдь не сатира, а по термину Чижевского «Идеологическая идиллия». (Напомним, кстати, превосходную статью нашего славного мастера слова А. М. Ремизова, напечатанную в «России и Славянство» в № 19 марта 1932 г. «Райская тайна»). |
| |
| 26 |
|
| |
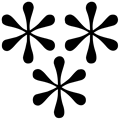 |
| |
| Объясняя «одиночество» Гоголя проф. Чижевский высказал очень интересную и, кажется, совсем новую мысль: Гоголь одинок оттого, что он не человек своей эпохи, что он – запоздалый представитель конца «Александровских дней» со всеми тогдашними мистическими уклонами и исканиями: отсюда и его – столь несвойственное для 40-х гг. миросозерцание, даже с «чаяниями» близкого конца мира; отсюда же и некоторые его мысли, позднее подхваченные отчасти Достоевским, отчасти символистами и религиозными мыслителями конца ХIХ в. и начала ХХ в. |
| |
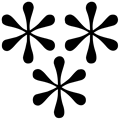 |
| |
| Гоголь, провозглашенный главою натуральной школы, вовсе не реалист (в ходячем смысле слова), и вовсе не веселый сказочник-фантаст, и вовсе не сатирик. Он хочет быть только идеологом, глашатаем новых или забытых истин. |
| |
| Но судьба одарила его ярким и своеобразным литературным талантом и этот талант помешал, да и до сих пор мешает нам улавливать его заветные идеи. |
| |
| Поэтому-то он и счел абсолютным провалом «Ревизора» его шумный успех 1836 г.: пьесу сочли яркой бытовой «сатирой», тогда как автор ждал от нее духовного перерождения зрителей. |
| |
| Начатки таких «Идеологических» заданий были подмечены некоторыми исследователями (Зеньковским и Гиппиусом) даже в «Вечерах на Хуторе». Эти же задания заставили Гоголя поместить в «Арабески» рядом с повестями, статьи научно-публицистические. |
| |
| Они же вызвали и его троекратную попытку «объяснить» Ревивизора, попытку обычно игнорировавшуюся учеными ХIХ в., и они же, наконец, легли в основание и «Мертвых Душ» (1842 г.). |
| |
|
| |
| Конечно, эта «поэма» вовсе не задается целью изобразить «русскую действительность»; конечно, это не сатира – Гоголь сам писал друзьям, что «ее содержание – тайна». Из сопоставления разных данных явствует, что это некий pendant к Дантовой трилогии. Гоголь хотел изобразить то, что потом изображал ни Достоевский и Толстой: тайну духовного возрождения души человеческой. В I-м томе, который только мы и знаем, дано изображение убитых грехом «мертвых душ»: II-й и III-й должны были показать их «воскресение». |
| |
| Гибнут души от овладевающих ими страстей – «пристрастий» – «задоров». При этом не так важен объект пристрастия, сколько |
| |
| 27 |
|
| |
| сила страсти, порабощающей душу человека. Зло, олицетворяющееся и воплощающееся в «чорте» – страстями убивает душу. |
| |
| Это же толкование автор применил несколько лет тому назад и к «Шинели», в превосходной статье того же имени, напечатанной в 1938 г. в «Современных Записках». |
| |
| Любопытно и очень показательно, что статья была обкромсана просвещенными редакторами: были выброшены все места, где говорилось о «чорте» – «хотя, прибавил Чижевский, — чорт-то, ведь, был не мой, а гоголевский». |
| |
| Но и с «Мертвыми Душами» повторилось то же, что было и с «Ревизором», и с «Шинелью»: яркость писательских красок заслонила философскую идею. Как в «Ревизоре» увидели только высмеивание провинциального захолустья и администрации, в «Шинели», протест против социальной несправедливости и жалость к «бедным людям», так и в «Мертвых Душах» восторгались только изображением уродств политического режима, сделавшего из людей – уродов. |
| |
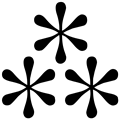 |
| |
| Не заметили при этом одного: не заметили, что «реалист» Гоголь описывал действительность не действительную, и что никакого правдоподобия тут нет, и ни о каком правдоподобии автор и не заботится. |
| |
| И именно потому, что он о нем не заботится, он так и любит невероятные гиперболы, а вместо полагающейся для реалиста «мотивировки» дает псевдо-мотивировку вроде той, например, что «крыша осталась непокрашенной потому, что канцелярские съели приготовленное на то масло, приправив его луком». |
| |
| Отсюда же и все не существующие ни в каких календарях имена и фамилии. |
| |
| Оттого-то, отмечает Чижевский, позднейшие «реалисты», якобы последователи Гоголя, первым делом очистили свой стиль от всего «гоголевского». Ибо их реальность была иная, чем «реальность» Гоголя. |
| |
|
| |
| Говоря о так называемом «религиозном кризисе» писателя, проф. Чижевский утверждает, что никакого «кризиса» не было, а была очень постепенная эволюция, проследить которую следовало бы, опираясь на литературное наследство писателя. |
| |
| Анализ «Портрета» натолкнул автора на совершенно новый вопрос в биографии Гоголя: на вопрос о влиянии на него немецких мистиков Бенгеля и Юнга–Штиллинга, весьма распространенных в России в конце царствования Александра и, в связи с этим даже на (кажется временное) ожидание близкого конца мира. |
| |
| 28 |
|
| |
| Вообще, вопрос о «личных» и «литературных» влияниях на Гоголя до сих пор почти не освящен в его биографии. |
| |
| А между тем интересны его сношения с польскими изуитами, с польским поэтом Богданом Залесским, его усердное чтение Фомы Кэмпийского в обстановке папского Рима. |
| |
| Интересно так же изучит вопрос о его несомненной начитанности в твореньях отцов Церкви (в Киевской Дух. Академии имелась его тетрадь выписок из них, совершенно еще не обследованная) и в богословии. |
| |
| Чужие влияния отмечаются проф. Чижевским и в «Переписке с друзьями». |
| |
| В этом «странном», по отзыву современников, произведении, Гоголь, отчаявшись провести свои заветные идеи путем художественной литературы, берется за публицистическое оружие, но оно ему мало свойственно и «Переписка» проваливается, хотя отдельные его мысли, как уже сказано, были подхвачены потом другими. |
| |
| Просматривая «Переписку», казалось бы уже такое «личное» произведение, Чижевский указывает, что в нем было много не абсолютно нового. И уже высказывавшегося другими. Кем? Автор называет П. Кулиша, Квитку Основьяненка и Жуковского с его «Отрывками» 1840 года. |
| |
| А через этих двух протягиваются нити к протестантским писателям, в частности к англо-саксонским. |
| |
|
| |
| Если нельзя не присоединиться к мнению В. Вейдле, что голый факт установления влияния того-то на того-то малоинтересен и поучителен, то, наоборот, история проникновения в чужую душу некой идеи и постепенного превращения ее из «чужой» в «свою» нередко открывает совершенно новые перспективы в понимании данного писателя. |
| |
| Факт признания Гоголя «своим» самыми противоположными литературными направлениями невольно наводит на многие размышления и вопросы. И первый из них следующий: да не была ли «реальность» Гоголя совсем не той реальностью, которую усмотрели в его произведениях его современники и ближайшие критики? Выходит, что он говорил о какой-то другой реальности. |
| |
| Александра Петрункевич. |
| |
|
| |
| 29 |
| |
|
|