| |
| Николай Васильевич Гоголь |
| |
| Источник: Возрождение. 1959. Тетр. 87. С. 5-10. |
| |
| |
Короткая жизнь Гоголя отрывочна и несвязна, бедна событиями, полна странностей. Родился он в небогатой, помещичьей, малороссийской семье когда-то ополяченной (Гоголь-«Яновские»), но затем вернувшейся в православие. Прадед писателя был священником, а дед Афанасий семинаристом… Этот Афанасий писал еще в официальной бумаге: «предки мои, фамилией Гоголь, польской нации». |
| |
| Находясь на летних «кондициях», т. е. давая уроки в семье крупного помещика Лизогуба, Афанасий увез дочку помещика, на ней и женился. В семью внесена была струя иной, помещичьей культурности. Но ребенок родился хилым: Василий, – отец будущего писателя. Василий Афанасьевич Гоголь был человек веселый и острый, писал бойкие хохлацкие комедии. Женился он на небогатой соседке, женщине восторженно-религиозной и очень болезненной. От родителей Николай Гоголь унаследовал: 1) плохое здоровье, 2) юмор отца, 3) мистицизм матери, и 4) бедность. |
| |
Золотушный ребенок, Гоголь с детства страдал слуховыми галлюцинациями. Баловали его дома безмерно. Это развило в нем самомнение и болезненную чувствительность; обидчивость, а вместе с тем равнодушие к интересам других людей. Учился он в Нежинском лицее; считался там «шутом», неряхою и лентяем. Увлекался театром и романтическими повестями Марлинского; в ученических спектаклях отличался в роли Простаковой в «Недоросле». Актерство и притворство, склонность и умение играть всегда какую-то роль – в нем остались. Осталось и пристрастие к пламенному романтизму в литературе, к вычурным тирадам в духе Марлинского. («Оставьте вашу вьюгу вдохновения», долго и тщетно советовал ему старый, опытный критик-журналист Полевой). |
| |
Приехав, по окончании лицея, в Петербург, Гоголь пытался поступить на сцену: не удалось. Тогда он напечатал, отдельной книжкой, свою поэму в стихах «Ганс Кюхельгартен», где, подражая немцам (Тику), изобразил самого себя романтиком и душевно-больным. Поэма провалилась. Двадцатилетний Гоголь решил бежать в Америку; доехал только до Германии, до Любека, прожил там два месяца и, успокоенный своим «дерзновением» и недостатком денег, вернулся в Петербург. |
| |
С тех пор пошло в его душу пристрастие к путешествиям: «Дорога, дорога! Боже, как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, – и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала. А сколько родилось в тебе чудных замыслов!». |
| |
Вернувшись в Петербург, Гоголь благоразумно поступил |
| |
| 5 |
|
| |
| на службу мелким департаментским чиновником; сильно нуждался. – Зиму 1829-1830 гг. «отхатил» всю в летней шинели. Преподавал в женских институтах историю; затеял, было читать лекции по истории в университете, но там его хватило на одну, блестящую, «вступительную» лекцию. Дальше Гоголь выдохся: не было ни призвания, ни подготовки. «Хоть бы одно студенческое существо понимало меня! Это народ бесцветный – как Петербург!», сердился Гоголь; но признавался, что и его-то самого увлекал, в сущности, тогда театр, а совсем не его лекция. «Примусь за историю, – передо мной движется сцена, шумят аплодисменты, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел, и оскаливают зубы, - и история к чорту!». |
| |
| Литературный талант «открыл» в Гоголе Дельвиг, стал печатать Гоголевские мелочи в своем альманахе «Северные Цветы». Через Дельвига Гоголь познакомился с Пушкиным и Жуковским. В них бедный «Гоголек» – (прозвище, данное Жуковским) нашел покровителей, выдвинувших его уже на широкую дорогу – к славе. Пушкин печатно расхвалил «Вечера на хуторе близ Диканьки». |
| |
| Эти «Вечера» написаны были Гоголем в суровом, холодном, чужом Петербурге по малороссийским воспоминаниям, в утешение самому себе. Приятно было вспомнить край, где вареники сами летели в рот Пацюка, да еще обмакнувшись в сметану. Родную Малороссию, когда-то его изнежившую, Гоголь любил. Пробовал переводить малороссийские песни. Земляку Максимовичу писал: «бросьте в самом деле кацапию (Великороссию!), да поезжайте в гетьманщину». |
| |
| Изображая «Гоголя в Риме», Анненков рассказывает, как Гоголь, уже далеко не юноша, идя с ним по улице и будучи в духе, – «как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, принялся петь разгульную малороссийскую песню; наконец, пустился просто в плюс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню». |
| |
| За украинского «Тараса Бульбу», – «коего начало достойно Вальтер Скотта», – Пушкин «расцеловал» Гоголя. |
| |
| Пушкин был для Гоголя «Провидением». Он сдерживал в Гоголе его мистический романтизм и направлял к художественному, правдивому реализму. Пушкин дал Гоголю тему его основного создания, «Мертвых Душ». А тему «Ревизора» Гоголь беззаконно перехватил у Пушкина, неосторожно ему рассказавшего о случае с неким Свиньиным, принятым в молдаванской глуши за столичного ревизора. Пушкин сам уже успел наметить несколько сцен для своего «Ревизора» и добродушно поворчал: «С этим малороссом надо быть осторожным, – он обирает меня так, что и кричать нельзя». |
| |
| 6 |
|
| |
В Гоголе, замечает старый Аксаков, «было что-то плутовское». |
| |
В литературных заимствованиях Гоголь был бесцеремонен. Он не знал изречения римлян, что «славянин считает дозволенным украсть – для угощения», но для угощения читателей обирал – кого мог! Для «Ревизора» использовали рукописную комедию Квитки-Основьяненки «Приезжий из столицы» – и сцены Полевого: «Ревизоры или славны бубны за горами». У романиста Нарежного Гоголь взял из «Бурсака» действующих лиц, семинаристов, для своего «вия»; а из «Двух Иванов или Страсти к тяжбам», – всю повесть об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. |
| |
| Но чужое, когда им угощал Гоголь, становилось гоголевским и веселило. |
| |
| Пушкин ценил в Гоголе брызжущую веселость, исключительно способность изображать пошлость жизни; видел в нем достойного преемника Фонвизину, – И «г-н Гоголь идет еще вперед!». Пушкин от души смеялся Гоголевским шуткам: «Носу» и «Коляске»: «великое спасибо Гоголю за его «Коляску»! («Игрушечка – шедевр» скажет потом о «Коляске» и Лев Толстой). |
| |
| Но Пушкин отмечал в Гоголевских вещах «неровность, бессвязность, неправдоподобие, неправильность в слоге». К «Ревизору» остался холоден. «Живо, автор умен», но в пьесе «карикатурная природа», отозвался о «Ревизоре» Вяземский, обычно совпадавший с Пушкиным в литературных оценках. Зато начало «Мертвых Душ» взволновало Пушкина: «Боже, как грустна наша Россия!» – Он взял с Гоголя клятву, что эта книга будет закончена. Пушкин умер, и клятва не была сдержана. |
| |
| После первых литературных успехов, Гоголь отправился путешествовать за границу; был очарован Италией. «Я родился здесь! Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр, – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине». «Душечка, красавица, моя Италия!» – «Влюбляешься в Рим медленно, понемногу, и уже на всю жизнь». Но здесь, в Риме, Гоголь писал «Мертвые Души», судорожно вызывая в себе воспоминания о России. Писал медленно, мучительно. Он еще перебил художественную работу печатанием религиозно учительной «Переписки с друзьями». |
| |
| Здоровье его ухудшается; Гоголь и раньше уже начинал всюду «зябнуть» – отогревался только в Италии. В последние годы малокровная зябкость его дошла до степени психического заболевания. Он одинок – и зябнет. |
| |
Но в одиночестве своем сам Гоголь больше всего повинен. Люди, его любившие и поддерживавшие, – как Аксаков, – постоянно натыкались с его стороны на резкости. Часто бывал он высокомерен. |
| |
Некрасов рассказывает, как Гоголь – незадолго до смерти, будучи в Петербурге проездом, изъявил желание видеть |
| |
| 7 |
|
| |
писателей, сотрудничавших в «Современнике», «Я, Белинский, Панаев и Гончаров надели фраки и поехали представляться как к начальству, Гоголь и принял нас, как начальник принимает чиновников…». |
| |
«Я не знаю, любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека», – писал старик Аксаков, так много для Гоголя сделавший (Аксаковы, Жуковский и государь обычно выручали Гоголя денежно). «Я думаю, нет. Да это и невозможно. Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нет никакого дела». |
| |
| Занятый только собой, Гоголь к сорока годам ощутил себя стариком. Он и был смесью немощного старца – и романтического подростка. Часто воображал себя умирающим. Страх смерти и загробного суда побудил его совершить паломничество к Святым Местам, в Палестину. Это было в 1848 году – (год революции в Европе); но и там – нет Гоголю успокоения. Свои палестинские впечатления он называет «сонными»; «только в Иерусалиме, писал он, я понял, как много во мне холода сердечного, как много себялюбия и самолюбия». |
| |
«Остроносый колдун», «с темным пятном в душе» и «внутренним холодком»; «кикимора»; – так изображают Гоголя писавшие о нем русские символисты, его ученики; Мережковский, Розанов, Ремизов, Блок, Белый. Но и «пятна» никакого особенного не было. Было безысходное противоречие между романтическим душевным порывом и собственным издевательским дарованием. Был эгоизм, – и привычка жить в мире воображаемом, в разладе с действительностью. |
| |
Жуковский (в письме к Плетневу, написанному под впечатлением смерти Гоголя) сокрушался о том, что «в его душе глубокая меланхолия соединялась с резкой иронией». «Е г о т в о р ч е с т в о… было в противоречии с его монашеским призванием и с с о р и л о е г о с с а м и м с о б о й». |
| |
«Духом – схимник сокрушенный, а пером Аристофан», определял Гоголя и Вяземский. В 20 лет побеждал Аристофан; в сорок лет – одолел схимник. |
| |
| В покаянном ужасе Гоголь сжигает теперь то, что пишет; «затем сожжен второй том «Мертвых Душ», что так было нужно. Создал меня Бог и не скрыл от меня назначения моего. Р о ж д е н я в о в с е н е з а т е м, ч т о б ы п р о и з в е с т и э п о х у в о б л а с т и л и т е р а т у р н о й. Д е л о м о е – д у ш а, и п р о ч н о е д е л о ж и з н и… Жгу, когда нужно жечь». |
| |
| Общеизвестно влияние на Гоголя его духовника, Ржевского священника, отца Матвея (Константиновского). Менее известно, что вторая часть «Мертвых Душ» была сожжена отчасти потому, что Гоголь вывел в ней отца Матвея, и это изображение духовнику не понравилось: «Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых во мне нет, да и к тому же с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник». Из-за |
| |
| 8 |
|
| |
| этого между Гоголем и о. Матвеем произошло бурное столкновение; – Гоголь под впечатлением ссоры и бросил в огонь свои тетради. Хотел уничтожить часть, а сжег все. |
| |
| Черт-искуситель, всегда бывший для Гоголя реальностью, стал, в последние недели его жизни, угрожающим обитателем той же комнаты. Гоголь беспрерывно молился, стоя на коленях по нескольку дней кряду; он обессиливал себя голодом. Религиозный восторг – («оставьте меня, мне хорошо») – перемежался припадками ужаса и безумия. После одного из припадков Гоголь скончался, сорока трех лет от роду, с предсмертным воплем: «Помилуй, Господи, меня, грешного, - свяжи сатану вновь» (слова, набросанные на листке перед смертью). |
| |
| Это было в 1852 году. Но уже на акварельном портрете 1841 года, сделанном в Риме знаменитым Ивановым, за одиннадцать лет до смерти Гоголя, у него вид помешанного. На могильной плите Гоголя вырезаны слова пророка: «Горьким словом моим посмеюся». |
| |
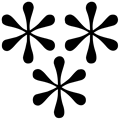 |
| |
| Страстный по натуре, но робкий и некрасивый Гоголь к красоте женской был чрезвычайно восприимчив и впечатлителен. Но он не искал сближения с женщиной, а давал волю своему необузданному воображению, отдавался фантазиям. Привычка «воображать» – навсегда увела его к распалявшим мозг губительным призракам. Не прошла женская любовь по его жизни! И нет в его созданиях русской женщины. Есть несколько бойких карикатур: Солоха; маменька и дочь в «Ревизоре»; сваха и невеста в «Женитьбе». Есть небывалые красавицы, – Аннунциата и Улинька; но нет женщины! Еще самая, пожалуй, живая – это мертвая ведьма-панночка в «Вие»! |
| |
| Гоголь своими вымыслами заставил и нас, вместе с ним, пугаться, смеяться, воображать. Никто не населил русский мозг таким количеством призраков, как бы живых! |
| |
| Давая душу вещам – вывескам, салфеткам, городским лужам, он и людей изображал как вещи: старушку – «совершенный кофейник в чепчике»; чиновник – «совершенная приказная чернильница». И преувеличивал все – как южанин – неистово! В «Мертвых Душах» канцелярия гражданской палаты описана так: «…шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина мертвыми листьями». |
| |
| С такими де преувеличениями давались в «Мертвых Душах» человеческие портреты. Сам Гоголь уверял, будто он брал свои личные недостатки и каждый из них воплощал отдельной фигурой. Но он придавал литературным маскам сходство и со своими знакомыми. Манилов, Собакевич, Чичиков, Ноздрев, Плюшкин, Петух, Коробочка – все это русское, живое, неоспоримое! Но все взято, – (как верно отметил Ро- |
| |
| 9 |
|
| |
| занов), – в п р е д е л е, в символе, фантастически возведено в крайнюю, последнюю степень. «Ярко освещена только одна черта, прочие оставлены в совершенной темноте, – и нет развития». У Гоголя – не только в комедиях, но и в повестях, – театр, освещенный невидимой гигантской рампой; все его «рожи» – загримированы, – высовываются и оскаливают зубы. |
| |
| Эта сгущенная, заостряющая сила Гоголевского дарования сказалась уже в первых его вещах. Родную Малороссию он «вообразил» себе в Петербурге так, что превратил ее в балетную декорацию, на фоне которой пляшут прекрасные дивчины в желтых, синих, розовых нарядах. Да и декорация меньше похожа на Украину, чем на экзотическую Бразилию; растут «подоблачные» дубы, реют «изумруды, топазы и яхонты эфирных насекомых» и «редкая птица долетит до середины Днепра»… Зато с какой силой воскрешал Гоголь колдовскую, недобрую, лунную ночь над Днепром (в «Страшной мести»): «ветер дергал воду рябью и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи». |
| |
Убегая от грохота петербургских улиц к себе; в одинокую, жалкую комнатку, Гоголь схватывал перо и писал: |
| |
| «О, не верьте этому Невскому проспекту! Все обман, все мечта, все не то, чем кажется… Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые тени домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает ламп для того только, чтобы показать все не в настоящем виде». |
| |
| Все навязчивее у Гоголя мысль, что «какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков, и все эти куски, без толку, без смысла, смешал вместе». |
| |
| Любая реальная мелочь разрасталась в Гоголевском воображении до уродства. Хлестаков – он, приснившийся городничему, «сосулька, тряпка», превращенная захолустным воображением чуть не в «фельдмаршала». Даже очнувшемуся городничему все еще мерещатся какие-то «свиные рыла вместо лиц…». А зритель, уходя из театра, никогда не забудет ни «унтер-офицерши, которая сама себя высекла», ни тридцати тысяч курьеров, которые умоляли Хлестакова управлять департаментом. «Бессвязно, неправдоподобно», – сказал Пушкин. Но Гоголем пережито. За неправдоподобие заплатил он безумием. Но созданное им неизгладимо. |
| |
| И. Тхоржевский |
| |
| 10 |
| |
|
|